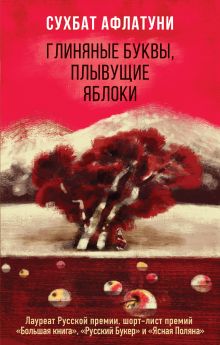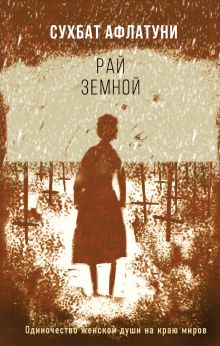Евгений Абдуллаев — поэт, прозаик и критик, живущий в Ташкенте. Читателям он больше известен под псевдонимом «Сухбат Афлатуни», что переводится с узбекского приблизительно как «Диалоги Платона». О том, откуда взялся этот псевдоним и каково быть русским писателем в другой языковой среде, мы узнали у самого автора.
Как живется русскому писателю в современном Узбекистане? Есть ли ощущение, что вы находитесь в чужой языковой среде?
Да, среда изменилась, русского языка стало меньше, хотя в Ташкенте, в пределах «золотого километра», это не сильно ощущаешь. Русский язык уходит, но это, что называется, «входило в смету». Язык существует в виде поля; меньше носителей, и поле беднеет... Да и у меня стали появляться рассказы и даже роман, где действие происходит в России. Это не значит, что перестал писать об Узбекистане, куда же без него? Куда без Средней Азии? «Что вижу, о том и пишу».
Вы говорите, что обеднение языка приводит вас к сюжетам о России. Эта идея похожа на ту, что была у русских эмигрантов в начале прошлого века?
Их идеей было сохранение языка. Им казалось, что в Советской России с языком происходит что-то ужасное, а они должны сберечь правильную русскую речь. Но то, что они сохраняли, в итоге оказалось трупом. Язык не надо сохранять, в нем надо жить и им надо жить.
В СССР узбекская литература выделялась как отдельное явление, и в то же время она была похожа на все среднеазиатские литературы своей сосредоточенностью на политике. Существовала ли свободная от идеологии узбекская литература? И каково теперь ее состояние?
Да, был Садриддин Айни — прекрасный прозаик, у Гафура Гуляма много интересных вещей. Проблема в том, что период модернизации узбекской литературы совпал с периодом соцреализма. Поэтому модернизация была советской, слегка кособокой. Приходилось ходить «по веревочке». Что-то действительно интересное стало появляться в 70-е, когда вошло в силу незапуганное и вполне европеизированное поколение. Возник такой интересный поэт, как Рауф Парфи, появилась великолепная проза Тагая Мурада. Это писатель уровня Чингиза Айтматова, а может и выше.
Потом это все, как и везде, обвалилось. Хотя интересные авторы остались. Фахриддин Низамов, например. Вика Осадченко.
 Глиняные буквы, плывущие яблоки Твердый переплет
Глиняные буквы, плывущие яблоки Твердый переплет
Поговорим о вас. Ваш псевдоним переводится как «Диалоги Платона». Что это? Игра с читателем? Проверка эрудиции?
Ни то, ни другое... Я ведь не собирался становиться профессиональным литератором. С другой стороны, не хотелось публиковать стихи (а тогда были только стихи) под фамилией, которая стояла под моими научными статьями. Не хотелось быть таким вот пописывающим стишки ученым.
Сейчас бы, конечно, не стал «псевдонимить». Одно время даже думал «сократить» себя до Абдуллаева. Как, скажем, Набоков — переехав в Штаты, «оставил» Сирина в Европе. Но «убийства» Афлатуни так и не состоялось.
В 99-м году возникла «Ташкентская школа», мы с друзьями, Санджаром Янышевым и Вадимом Муратхановым сделали маленький самиздатовский сборник. На обложке я там просто «С. Афлатуни», без всякого «Сухбата». Потом Санджар предложил «Сухбата», — и все срослось.
Необычно срослось, с «двойным дном». А если говорить о вашей прозе, какой бэкграунд должен быть у вашего читателя, чтобы ее понять?
Стараюсь писать для читателя без подготовки. Со стихами — другое; читатель стихотворений — он немножко другой, более редкая птица. Но с прозой все иначе. Мне интересно, чтобы меня услышала и поняла как можно более широкая аудитория. В этом нет никакого коммерческого замысла, просто желание быть услышанным в эпоху, когда люди перестали друг друга слышать.
«Просто» ведь не означает «примитивно» или «общедоступно». Хочется, чтобы в тексте было как можно больше внутренних слоев, чтобы его можно было прочесть и как юмористический рассказ, и как детектив, и как социальную сатиру.
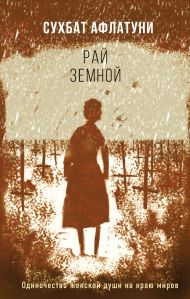 Рай земной Твердый переплет
Рай земной Твердый переплет
Вы одновременно литератор и ученый. Как удается балансировать?
Голова начинает работать по-другому. Бывают дни, когда понимаю, что не напишу ни строчки прозы, — и пишу что-то научное. Как-то чувствуешь, какой поток проходит через твою голову именно сейчас. Постоянная самодиагностика.
Работая, вы поддаетесь потокам? Или у вас все-таки есть свое жесткое расписание?
Не люблю слово «вдохновение», его уже измусолили до неприличия. Но без него — как?.. И если утром сажусь писать и понимаю, что сегодня у меня ничего не произойдет, внутри и снаружи пустота, то даже за редактуру иногда не берусь. Хотя слушателям писательских курсов всегда советую, если ничего не пишется, начать с редактуры, «разогреться» на ней. Но и редактирование тоже требует вдохновения. И, как правило, именно когда чувствую писательский драйв, заставляю себя останавливаться и возвращаюсь к тем моментам, которые мне кажутся провисшими. И, редактируя, фактически переписываю их.
Никакой нормы выработки себе не ставлю. Я счастливый человек, не ограничен договорами «В год по роману». Я бы так просто не смог, восхищаюсь авторами, у которых это получается.
Какие советы вы даете вашим студентам на писательских курсах?
Первым философом считается Фалес Милетский, когда его спросили: «Что есть самое легкое?», он ответил: «Давать советы». Хотя слово «совет» сам обычно избегаю, стараюсь быть не ментором, а читателем. Не даю советы, а делюсь мыслями, пожеланиями.
И главное пожелание: пишите проще. Обучение музыке начинается не с «Лунного Пьеро», оно начинается с «Чижика-пыжика». Сложность придет потом.
Что касается редактуры, то можно попробовать поменять кегль текста. Глаз замылен, а при смене кегля и шрифта все выглядит немного другим. Несколько раз распечатываю текст, на экране одно, а на бумаге другое. А когда выходит книжка, видишь вдруг третий текст. Одну из моих повестей читала жена, потому что важно было услышать все диалоги, звучащие «со стороны»... Но, конечно, стараюсь больше так не зверствовать.
Как вы относитесь к критике и к своим «злым» читателям?
Смысловой акцент здесь на слове «читатель». Если он тебя прочитал, значит, он заслуживает авторского уважения. В одном интервью меня спросили: «Можно ли что-то писать как нетленку, а где-то халтурить?» Нет. Профессионал должен уметь все, кроме одного — халтуры. Не важно, что и для кого ты пишешь; ты не имеешь права делать это левой ногой.
А злой читатель или добрый, это уже не важно. Мы пишем для того, кого Мандельштам называл «провиденциальным собеседником». Читатель, которого не видишь, которого не знаешь, но который для тебя реальнее всех остальных читателей. А потом, например, на встречах с читателями, он иногда материализуется. Но это уже — «сверх программы».
 Рейтинги
Рейтинги