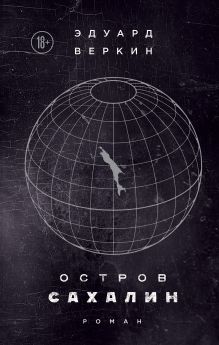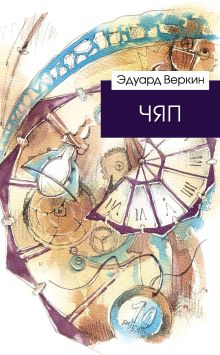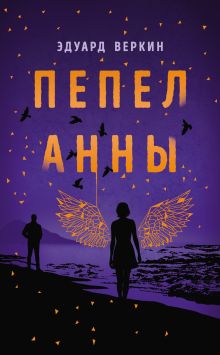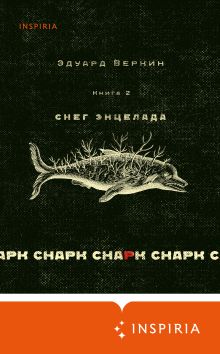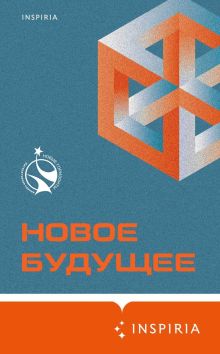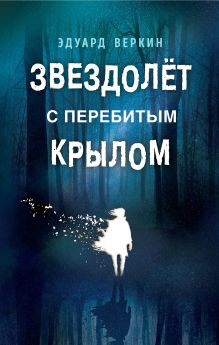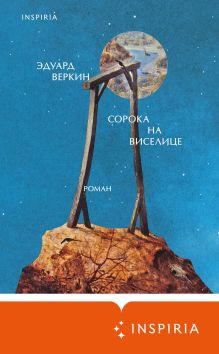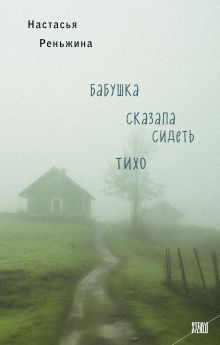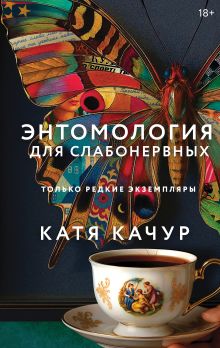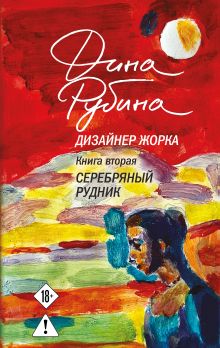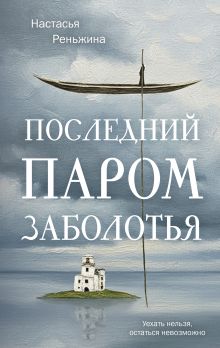Я когда-то неумно написал, что так влияют "частички социального оптимизма", которых в литературе не было видно давным-давно, но это глупость, конечно. Во-первых, трудно назвать Веркина оптимистом. Во-вторых, характер этой особенности веркинских книг какой угодно, но не социальный. Социальные реалии у Веркина аккуратно выглядывают из-за основной линии повествования, как ушки у собаки, и эти реалии точно не радужные. Тем более нет у Эдуард Николаевича пассажей про светлое будущее, в котором будет водиться счастье для всех даром.
Литература очень много лет назад должна была способствовать просвещению нравов. К концу девятнадцатого века эта идея уступила тому, что литература должна быть художественно качественной, а на нравы художник внимания обращать не должен. Эти две концепции соревновались и соревнуются, а, впрочем, часто получаются так, что автору хочется одного, а получается совсем другое. Хрестоматийный пример — это Лев Николаевич Толстой, у которого образы зачастую жили отдельно и бодро, а философская и этическая система этим же образам, начинавшим жить своей жизнью, проигрывала. Текст с редкой и могучей идеей, в свою очередь, может быть до боли корявым, но всё-таки его вытащат несколько кусков, в которых эта идея содержится.
Чудо Веркина, по-моему, в том, что этическая система и художественные образы живут у него сами по себе, но при этом каким-то образом переплетаются. Это не имеет ничего общего с попытками красиво развернуть какое-нибудь учение с примерами или извлечь из уже сложившегося художественного мира идею. Это синегрия этики и поэтики, поэтому получается так хорошо, красиво и неповторимо.
 Рейтинги
Рейтинги