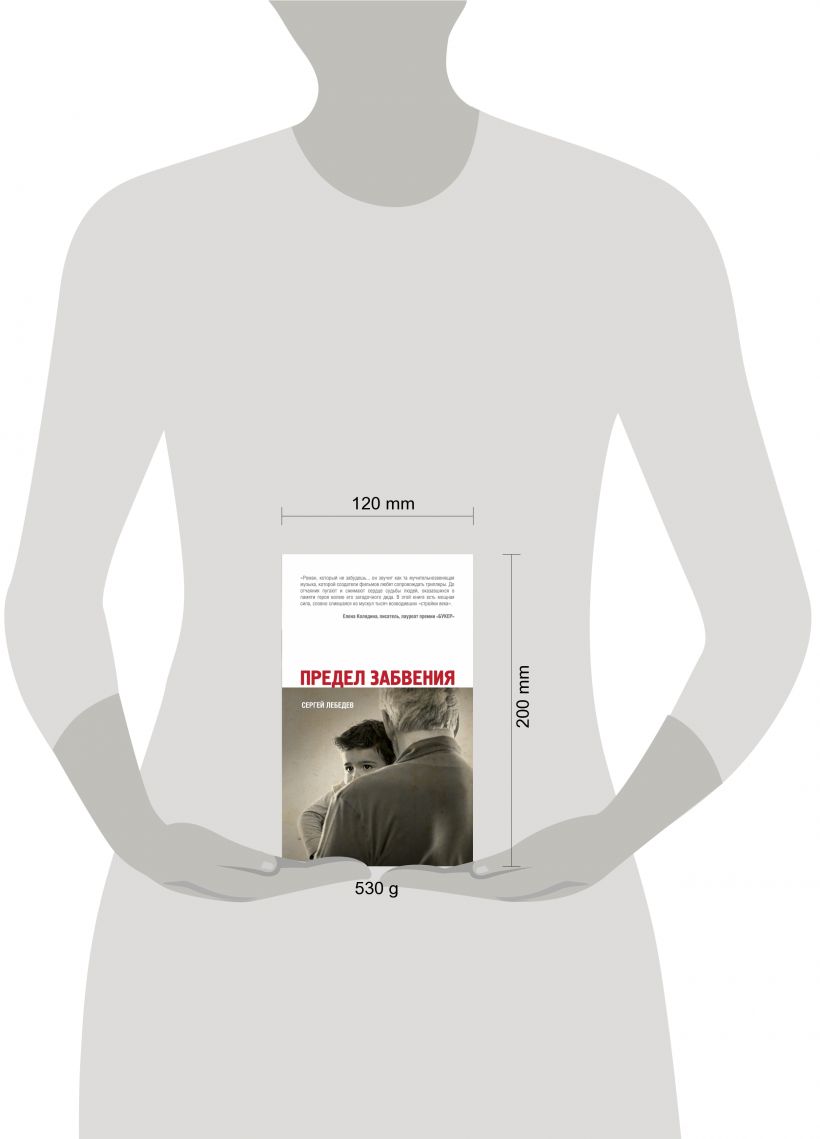Прожить насквозь
Начать хотя бы с того, что она вся — монолог. Внутренний, внимательный, медленный, подробный. Сплошной, почти на три сотни страниц, без единого диалога, лишь изредка прерываемый отдельными внешними репликами (скорее — вращивающий их в себя). Причём цельный: ни разу на всём его протяжении автор не теряет напряжения, — более того, чем ближе к концу романа, тем ощутимее оно нарастает, — ни разу не даёт читательскому вниманию выпасть из задаваемых им направлений.
Ближайший аналог тут — разве что Пруст, с его поднесённым к повседневным корням жизни увеличительным стеклом. Но это русский Пруст, тёмный, трудный и страшный.
Что совсем удивительно — это книга почти без имён. Да, в сущности, попросту без них — два-три, случайно упомянутых, не в счёт, тем более, что ни одно из них не принадлежит центральным персонажам, которые так и остаются безымянными (и, это, кстати, очень сильный ход: они получаются по существу архетипичными. Любое имя, подумаешь, только сбивало бы напряжение). А центральных тут двое: главный герой-повествователь и его неродной, «Второй», дед, совершенно чужой и, более того, совершенно, до мучительного, чуждый, которому он оказался обязан — даже дважды! — собственной жизнью.
Один раз Второй дед, связанный с семьёй героя вначале всего лишь случайным соседством, настоял на том, чтобы мать его родила. Ситуация, казалось бы, немыслимая: родители сомневались, врачи опасались — поздняя беременность, может быть опасно, — слепой одинокий сосед настоял. Это было важно ему — по внутренним, тёмным причинам: он хотел иметь отношение к продолжению жизни, пусть чужой. Эту жизнь он получил — и, никого уже особенно не спрашивая, потихоньку, но очень твёрдо забрал в свои руки власть над ней. Привязал к себе мальчика — о нет, не любовью! — что самое удивительное: ни близости, ни тепла, ни понимания, ни радости ему навстречу Второй дед не вызывал, хотя мальчику этого вначале даже хотелось — так было бы понятнее, человечнее. Нет — не получалось. Он привязал его просто внешней, непроницаемой и непререкаемой властью.
Второй раз, уже совсем, казалось бы, бесповоротный, — он обязал и привязал своего неродного внука, когда того укусила бешеная собака. Он отдал ему для переливания собственную кровь — и, неожиданно для самого себя, оказался слишком слаб, чтобы это пережить.
«Его смерть обязала меня целиком и бесповоротно, обязала благодарностью, не зависящей от любого возможного знания о нём: как бы то ни было, он меня спас, жертвуя жизнью, — и тем туже завязывался узел, что жертва была случайной, а добро — рисково прочитанным наперёд.»
Но дело-то в том, что и знания вначале никакого не было. Вся книга — об обретении героем этого знания. И о развязывании туго и, казалось бы, навсегда затянувшегося узла.
Есть что-то мучительное, невозможное, вызывающее внутренний протест в самом избранном автором заменителе имени этого человека: «Второй дед», в глухом, одышливом слове «Второй», которого, чувствуешь, не должно тут быть, фонетика западает на нём сломавшейся клавишей. Его хочется выплюнуть, как застрявшую шелуху от семечка, лишающую фонетической и дыхательной свободы. Но оно не выплёвывается. Сидит цепко.
Плотно впечатавшись в детство героя и вкачав в его жилы свою кровь, Второй дед как бы отравил его этим наследством. И тем самым обрёк на неясную, но стойкую внутреннюю чуждость людям вокруг. Он заразил его неизбранным и безблагодатным одиночеством.
«Я чувствовал, — вспоминал уже выросший повествователь, — что я безумен, что во мне — вирус знания, которого не должно передавать живым...»
Он сделал названного внука чужим даже самому себе.
«И ты не знаешь, — говорил себе мальчик много позже, — что делать с этими мыслями, у тебя нет привычки взаимодействовать с ними, безопасно впускать их в свои орбиты. И ты становишься не нужен сам себе; с тебя снимается защитный каркас силы и жесткости, а других защит у тебя нет.»
История, прожитая героем-повествователем на протяжении этого монолога, получилась не только трудная, но и страшная. Она — об изживании из себя чужой и навязанной жизни, чтобы обрести свою. По существу, это — развёрнутая на весь роман работа освобождения.
Внешне она состоит в том, что выросший герой решается понять, от кого оказалось зависимым его существование — и отправляется в места, где прошла жизнь Второго деда, откуда уже на памяти мальчика Деду приходили письма. Второй дед ничего не рассказывал о своём прошлом, притом не переставало чувствоваться, что там что-то очень недоброе. Ускользающее от слова с подозрительной и тревожащей настойчивостью.
Так оно в конце концов и оказалось. Второй дед был начальником лагеря на Севере и погубил многие жизни, включая жизнь собственного семилетнего сына.
Выросший мальчик добрался до этого лагеря — вернее, до того, что от него осталось. Он добрался даже дальше, до того, на что невозможно смотреть, потому что оно уже за гранью человеческого, до самого «предела забвения» — до ямы на заброшенном острове, где навсегда остались, непогребённые, вмёрзшие в грунт тела погубленных Вторым дедом людей.
Ему не было нужно разобраться в этом символическом наследстве: и так, с самого начала, было ясно, что своим оно для него никогда не станет (недаром то единственное, что он смог сделать с ключами от унаследованной квартиры Второго деда — это выбросить ключи, чтобы никогда её больше не открывать). Надо было просто отдать себе в доставшемся предельно полный отчёт. Прожить его насквозь, выйти с другой стороны — и начать дышать.
Ольга Балла-Гертман
Источник: svobodanews.ru
 Рейтинги
Рейтинги