Георгий Иванов (1894 — 1958) был знаком с целым рядом знаменитых поэтов Серебряного века. Сам — талантливый автор, он всегда был своим среди посетителей «Бродячей собаки», литературных кружков и поэтических вечеров. Расцвет его творчества пришелся на переломную эпоху в жизни страны. Поэтам и писателям, оставшимся в молодой Советской Республике, нужно было встраиваться в новый для них мир, в котором многие из них так и остались чужими.
Иванов не принял Революцию и уехал в сентябре 1922 года, но о коротком периоде его жизни в обновленной стране, общении с Гумилёвым, Мандельштамом и другими поэтами остались интересные свидетельства его жены — Ирины Одоевцевой.
Мы публикуем десять цитат из мемуаров поэтессы:
| «Если бы меня спросили, кого из встреченных в моей жизни людей, я считаю самым замечательным, мне было бы трудно ответить — слишком их много было. Но я твёрдо знаю, что Георгий Иванов был одним из самых замечательных из них. В нём было что-то особенное, не поддающееся определению, почти таинственное, что-то, не нахожу другого определения от четвёртого измерения». |
| «Он был очень добр, но часто мог производить впечатление злого и даже ядовитого из-за насмешливого отношения к окружающим и своего „убийственного остроумия“, как говорили в Петербурге. Гумилёв советовал мне, когда я ещё только мечтала о поэтической карьере: „Постарайтесь понравиться Георгию Иванову. Он губит репутацию одним своим метким замечанием, пристающим раз и навсегда, как ярлык“». |
| «Гумилев, чтобы заставить своих учеников запомнить стихотворные размеры, приурочивал их к именам поэтов — так, Николай Гумилев был примером анапеста, Анна Ахматова — дактиля, Георгий Иванов — амфибрахия. Но кто такой амфибрахический Георгий Иванов, я не знала, а Гумилев, считая нас сведущими в современной поэзии, не пояснил нам». |
| «Георгия Иванова я уже видела на улице, возвращаясь с Гумилевым из Студии, и в самой Студии, где он изредка, мимолетно появлялся. Он высокий и тонкий, матово-бледный, с удивительно красным большим ртом и очень белыми зубами. Под черными, резко очерченными бровями живые, насмешливые глаза. И... черная челка до самых бровей. Эту челку, как мне рассказал Гумилев, придумал для Георгия Иванова мэтр Судейкин. По-моему — хотя Гумилев и не согласился со мной — очень неудачно придумал.
Георгий Иванов чрезвычайно элегантен. Даже слишком элегантен по „трудным временам“. Темно-синий, прекрасно сшитый костюм. Белая рубашка. Белая дореволюционной белизной».
|
| «Зимний вечер. Мы, то есть Мандельштам, Георгий Иванов и я, пьем чай у Гумилева. Без всякой торжественности, из помятого жестяного чайника — чай с изюмом из бумажного свертка. Это не прием. Я, возвращаясь с Гумилевым после лекций в Диске, зашла на минутку отогреться у печки. Георгий Иванов и Мандельштам столкнулись с нами на углу Преображенской и присоединились. И вот мы сидим вчетвером перед топящейся печкой. — Ничего нет приятнее „нежданной радости“ случайной встречи, — говорит Гумилев.
Я с ним согласна. Впрочем, для меня все встречи, случайные и неслучайные, „нежданная радость“. Я как-то всегда получаю от них больше, чем жду».
|
| «Оказывается, Мандельштам — так уж ему всегда везет — явился к Георгию Иванову в день, когда тот собирался перебраться на квартиру своей матери. До вчерашнего утра Георгий Иванов жил у себя, отапливаясь самоваром, который беспрерывно ставила его прислуга Аннушка. Но вчера утром у самовара отпаялся кран, ошпарив ногу Аннушки, и та, рассердившись, ушла со двора, захватив с собой злополучный самовар, а заодно и всю кухонную утварь. И Георгию Иванову стало невозможно оставаться у себя. О том, чтобы вселить Мандельштама к матери Георгия Иванова, тонной и чопорной даме, — не могло быть и речи. И Георгий Иванов, кое-как отогрев Мандельштама и накормив его вяленой воблой и изюмом по академическому пайку и напоив его чаем, на что потребовалось спалить два тома какого-то классика, повел его в Дом Искусств искать пристанища». |
| «Гумилев считал, что стихи должны издаваться классически просто и строго, без всяких художественных украшений, превращающих сборник стихов в предмет искусства. Лозинский и Георгий Иванов, напротив, стояли за „художественное оформление“. Мандельштам, смотря по настроению, склонялся то на одну, то на другую сторону. Издатель Петрополиса разрывался от волнения и сомнений, страстно советовался с поэтами и с художниками, стремясь, по выражению Лозинского, создать „книгоиздательство равного коему не было, нет и не будет на свете“». |
| «Конечно, как и всякое явление тогдашней литературной жизни, книгоиздательское волнение и сомнения Я. Н. Блоха нашли отражение в комических стихах, и Георгий Иванов написал свою „Балладу об Издателе“». |
| «Однажды, когда мы с Георгием Ивановым сидели в саду Дома Литераторов, Гумилев подошел к нам с озабоченным видом и, наскоро поздоровавшись, спросил, не найдется ли у меня или у Георгия Иванова какого-нибудь подходящего к случаю стихотворения. У меня, конечно, ничего подходящего не оказалось, но Георгий Иванов вспомнил какую-то свою строфу о Психее, глядящейся в зеркало. Гумилев нахмурившись выслушал ее и одобрительно кивнул. — Ничего, сойдет. Скажу ей, что она похожа на Психею. — И тут же записал эту строфу под диктовку Георгия Иванова, поставив под нее свою подпись и дату — июль 1921 года, а над ней посвящение. Эта „Психея“ вернулась к Георгию Иванову, когда он собирал стихи Гумилева для посмертного сборника, но он, к негодованию приславшей ее, не счел возможным включить свою строфу в сборник Гумилева. Так как часто одно и то же стихотворение приносилось или присылалось с различными посвящениями, Георгий Иванов решил печатать такие стихи без посвящений, что вызывало ряд обид и возмущений. Кстати, забавное недоразумение: Георгий Иванов дал и сам стихотворение Гумилева, но зачеркнул посвящение себе». |
| «... Я не стала писать по-французски. Георгий Иванов воспротивился этому — чтобы русский писатель писал не по-русски? Он считал это чем-то вроде измены. Я послушалась его, хотя теперь и жалею».
|

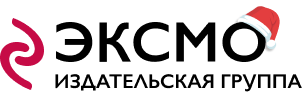

 Рейтинги
Рейтинги










