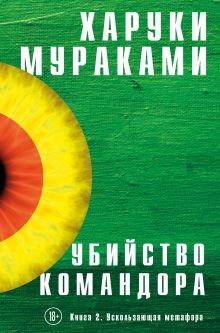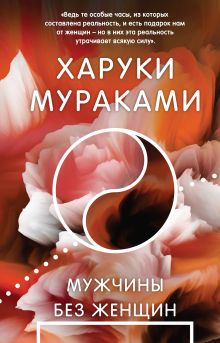Харуки Мураками — один из наиболее известных и популярных современных японских писателей. Его книги переведены на десятки языков, а его имя уже несколько лет мелькает в списке претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Критики ведущих мировых СМИ писали о произведениях Мураками в своих рецензиях и обзорах. Мы сделали выписки из наиболее примечательных из них (спойлер: будет и про роман «Убийство командора», который пока что не переведен на русский язык).
The New York Times о сборнике рассказов «Мужчины без женщин»
Автор: Джей Филден
В «Мужчинах без женщин» нет пояснительного вступления. А вот в предыдущем сборнике рассказов Мураками, «Токийских легендах», такое вступление было, и в нем автор рассказал нам, что его мысли обращаются к новеллистике только в периоды пауз между работой над романами (которые он называет «intermezzo»). Также писатель раскрыл нам свою задумку в предисловии к сборнику 2000 года под названием «Все божьи дети могут танцевать» о землетрясении в Кобе: «Я написал его в надежде, что все шесть историй создадут в сознании читателя единый образ, т.е. для меня он больше похож на концептуальный альбом, нежели на сборник рассказов». Поскольку в новеллах, из которых состоят «Мужчины без женщин», наличествует общий мотив, мне кажется вполне справедливым предположить, что Мураками, возможно, при его написании подразумевал ту же самую метафору из мира музыки.
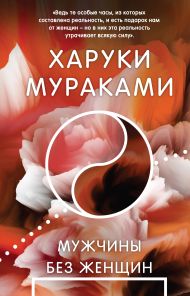 -17% Мужчины без женщин Твердый переплет 800 ₽ 969 ₽ -17% Добавить в корзину
-17% Мужчины без женщин Твердый переплет 800 ₽ 969 ₽ -17% Добавить в корзину
Меланхолическая пена, которую Мураками взбивает на своих страницах, — решительно мужского свойства: это дождливый Токио неверных женщин, прозрачный односолодовый виски, бродячие коты, крутые тачки и классический джаз, играющий на Hi-Fi аппаратуре, которая описана по-мужски подробно («проигрыватель „Thorens“, усилитель „Luxman“, двухполосные компактные колонки „JBL“»), например, в рассказе под названием «Кино», названном по имени главного героя. Эта техника — тщательно настроенное достояние брошенного мужа, который однажды приходит домой и обнаруживает, «как подскакивают красивые груди» его жены в объятиях его лучшего друга. После этого он переезжает в квартиру над старой кофейней своей тетки. Кофейню он превращает в убыточный бар, в который не ходит никто, кроме нескольких раздражительных криминальных типов, лысого любителя пива и виски, который, возможно, является синтоистским духом, а также некоей женщины, с которой Кино спит и чье тело покрыто ожогами от сигарет. Песня, которую как-то заводит Кино («Joshua Fit the Battle of Jericho» в исполнении Коулмена Хокинса), побуждает всезнающего (возможно, даже слишком сведущего в истории джаза) рассказчика заметить, что Кино больше всего нравилось контрабасовое соло Мэйджора Холли. Это мимолетное, но проницательное противопоставление: человеку, которого провидение выбило из вселенского ритма, напоминают о мужестве, которое требуется для импровизации. Как сказал Майлз Дэвис, «не играй то, что уже есть. Играй то, чего ещё нет. Импровизируй!».
The Guardian о сборнике рассказов «Мужчины без женщин»
Автор: Кейт Кэллоуэй
Мураками обладает потрясающим пониманием молодости и старости — а также слабостей, присущих обоим периодам жизни. Молодой Китару — в некотором роде мультяшный герой. У него изысканная внешность, но, как только он начинает говорить, его кажущаяся утонченность исчезает «словно песочный замок под лапами энергичного лабрадора-ретривера». Эти образы восхитительны (как и уши спутниковой тарелки, упомянутые выше), но использованы скупо: на костях повествования Мураками нет лишней плоти.
Не все истории повествуют о «мужчинах без женщин». Шахразада — мощная, эксцентричная новелла — завязана вокруг женщины средних лет, заработавшей это прозвище. Прекрасная рассказчица, она развлекает Хабару, у которого служит домработницей, а также любовницей. Многие истории Мураками завязаны на взаимоотношениях, где одному человеку любопытен другой, и здесь Шахразада рассказывает историю, предметом которой снова является скрытая потребность в близости. Она вспоминает, как, будучи подростком, тайно проникала в дом мальчика (не испытывавшего к ней никакого интереса) и с безумной влюбленностью собирала сведения о нем. Комичность истории лежит в контрасте между его скучной, ничем не выдающейся подростковой спальней и «головной», подпитываемой адреналином эротикой ее «походов».
Далее рассказы становятся мрачнее и наполняются экзистенциальной сутью. В «Независимом органе» мы знакомимся с доктором Токаем — убежденным холостяком, знатоком вин и пластическим хирургом, управляющим одноименной клиникой красоты. Его история одновременно забавна и трагична. Доктор Токай так и не женился, но обладает привычкой заводить романы и обычно готов не обращать внимания на физические недостатки своих любовниц, «не было б явных изъянов, способных вызвать у него профессиональный интерес». Мураками пишет об этом враче, подмигивая читателю, как бы намекая, что разуверился в нем.
The New York Review of Books о романе «1Q84»
Автор: Чарльз Бакстер
Слово «реализм» — ключевой термин, который читатели употребляют по отношении к некоторым литературным произведениям без какого-либо консенсуса по вопросу того, что он на самом деле значит. В конце концов, если мы не можем достичь согласия по поводу того, что такое реальность, то как нам прийти к единому мнению о том, что такое реализм? Вся эта тема не выдерживает долгих обсуждений, поскольку предмет спора становится слишком широким и расплывчатым, чтобы иметь хоть какую-нибудь практическую ценность. Часто нам удается говорить о художественной литературе, не занимая никакой позиции по поводу того, что реально, а что — нет, хотя на самом деле мы иногда говорим, что какое-либо событие или герой — «неправдоподобны» или «фантастичны», тем самым показывая, что за истинное мы все же почитаем нечто правдоподобное и повседневное.
 -12% 1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре (комплект из 3 книг) Твердый переплет 2763 ₽ 3149 ₽ -12% Добавить в корзину
-12% 1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре (комплект из 3 книг) Твердый переплет 2763 ₽ 3149 ₽ -12% Добавить в корзину
В своих романах, рассказах и документалистике Мураками отказывается проводить подобное различие, более того, он показывает, часто смело и живописно, притягательность нереального и фантастического для простых людей, которые, не в силах перенести данный им мир, отчаянно жаждут отправиться куда-нибудь в другое место. Повествование, которое получается в результате, соответствует стилю, который я окрестил «нереализмом». В нереалистической литературе герои вступают в секты. Они верят в апокалипсис и Армагеддон или спускаются по всяким кроличьим норам и оказываются в месте, которое сам Мураками в знак уважения к Льюису Кэроллу называет Страной чудес. Они с нетерпением ожидают конца света. У них преобладает магическое мышление. Не каждому нравится быть в таком «вывернутом» месте, и романы часто повествуют о героических попытках выбраться из Страны чудес, но она, подобно Лас-Вегасу, оказывается одним из основных пунктов прибытия. Как говорит одна из героинь «1Q84», «без фантазий люди жить не могут. Правда же?»
The Telegraph о романе «1Q84»
Автор: Энтони Камминс
Мураками за шестьдесят, что может быть одной из причин подобных повторений, но не в том смысле, о котором можно было бы подумать. По мнению его переводчика, этот автор столь уважаем, что «ему сойдет с рук все что угодно». Наверное, «1Q84» доказывает это: по степени глупости ее кульминацию (<Он> «приводит тело в движение — постепенно, осторожно») трудно переплюнуть.
В данном случае интерес автора к повседневным деталям (обаятельный в его рассказах) наводит на мысль, действительно ли этому роману необходимо быть таким длинным. Многие отрывки звучат так: «Тэнго выпил кофе, дожевал тосты и, оставив на столе прочитанную газету, вышел из кафетерия. Вернувшись домой, почистил зубы, принял душ и начал собираться на лекции».
Роман так часто кратко резюмирует самое себя, что читатель начинает задумываться, не пошел бы и ему на пользу синий карандаш Тэнго. «Что я делаю в таком странном месте?» — думает один из героев. «Наконец он вспомнил, что...» (далее — краткое содержание предыдущих серий). Чтобы напомнить нам сюжет, Мураками постоянно находит благовидные предлоги (как, например, монолог Тэнго у постели своего отца, находящегося в коме), но все же нам трудно избавиться от впечатления застоя в повествовании.
The Japan Times о романе «Убийство командора»
Автор: Даниэль Моралес
После двух романов подряд, написанных от третьего лица («1Q84» 2009 г. и «Бесцветный Цукуру Тадзаки и годы его странствий» 2013), в своем последнем произведении «Убийство командора», опубликованном в Японии и пока только на японском языке, Мураками вернулся к повествованию от первого лица. В новом романе ему не удалось «оседлать» ту энергию острых, противоречивых героев, которая «взрывала» его книги 1980-х и 1990-х гг.
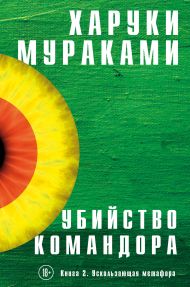 Убийство Командора (комплект из 2 книг) Остальное
Убийство Командора (комплект из 2 книг) Остальное
В романе рассказывается история безымянного 36-летнего портретиста из Токио. Когда его жена Юдзу внезапно заявляет о том, что хочет развода и признается, что встречается с другим, он отменяет все свои дела и отправляется на месяц в поездку на Хоккайдо и Тохоку, а затем селится в деревенском доме на вершине горы в Одаваре, префектура Канагава, где он планирует впервые за много лет творить в свое удовольствие, а не писать портреты на заказ.
Таким образом, это своего рода роман о становлении, о том, как герой пытается вновь вернуть себе вдохновение художника и выработать свой уникальный стиль.
Одержимость Мураками изоляцией своих героев продолжается: рассказчик проводит большинство времени в доме, уставившись на холсты, занимаясь приготовлением пищи, чтением и переслушиванием обширной коллекции пластинок с классической музыкой, принадлежащей хозяину дома, известному художнику по имени Томохико Амада, отцу университетского друга рассказчика, Масахико. «Будь осторожен, — говорит Масахико главному герою. — Не попади под влияние духа моего отца. Он — человек железной воли».
Также Мураками попытался воссоздать магию «Хроник заводной птицы», включив длинные рассказы об исторических событиях, связанные с учебой Амады в Европе накануне Второй мировой войны. В разных местах несколько беспорядочно размещены отрывки об Аншлюсе, Хрустальной ночи и Нанкинской резне, часто в длинных диалогах Меньшики и Масахико. «Хроники заводной птицы» имели такой успех, поскольку события войны изображены так живо, что кажутся потрясающе реальными. «Убийство командора» же, напротив, порой напоминает статью из Википедии.
На книги Харуки Мураками из нашей статьи действует скидка 20% по промокоду ЖУРНАЛ.
 Рейтинги
Рейтинги