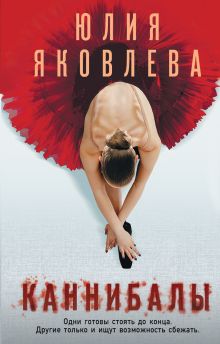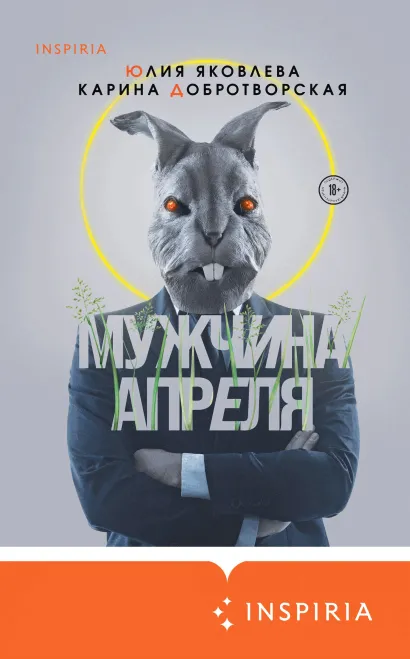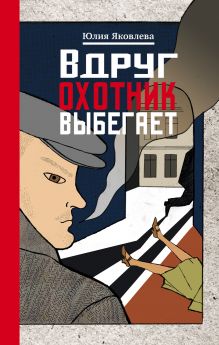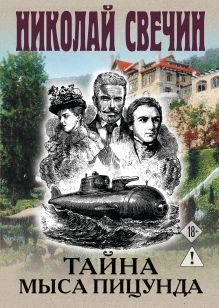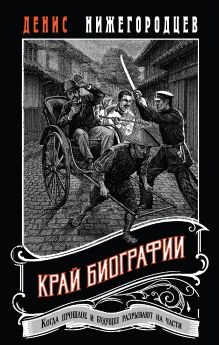Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
«Укрощение красного коня» (привет Кузьме Петрову-Водкину) — вторая часть ретродетектива Юлии Яковлевой о следователе Василии Зайцеве. В первой книге, которая называлась «Вдруг охотник выбегает», Зайцев шел по следу маньяка, обладавшего большим художественным вкусом: своих жертв после их смерти он наряжал и усаживал в позы героев полотен великих мастеров живописи. Во втором томе, на первый взгляд, никакого преступления и нет: несчастный случай — гибель орловского рысака и его наездника во время забега. Однако то, что выглядит как невезение, окажется ниточкой к гораздо более масштабным преступлениям. А если учесть, что время действия — 1931 год, то шанс попасть под копыта истории нарастает с каждым днем.
— ...И мы должны защищать порядок, жизнь, покой советских граждан! Нанесем удар по кулацким гнездам. Стальным советским кулаком! Каждым имеющимся человекостволом.
Ухабистая дорога встряхнула товарища Емельянова. На этот раз в голосе Зайцев услышал и энергию, и злость, и даже некоторое самолюбование.
Колыхались флажки, которыми была размечена беговая дорожка. По двум усачам на транспаранте, Сталину и Буденному, пробегали легкие волны, надувались и опадали пузыри — политически неграмотный ветерок заигрывал с вождями. Повязка товарища Емельянова ослепительно белела на солнце. Матово блестела портупея. Зайцев стоял чуть позади него, ему мучительно хотелось почесать лоб под кепкой. Он спохватился, что сам-то вообще никакой не строевой кадр. Команда «смирно» к нему не относилась. Снял кепку, почесал лоб. Натянул снова.
Он все еще недоумевал, зачем он здесь. Зачем они все здесь. На лицах курсантов-кавалеристов — зернышки в ряд — не проступало ничего: ни тревоги, ни любопытства. Выражение выглажено дисциплиной. Глаза прямо, нос вздернут, рот сжат. Двадцать три богатыря, снова вспомнил Зайцев. Для чужака, извне — неотличимые в единении. Все как один. Вздымались пики усов Баторского. Зайцев нашел глазами Артемова. Тот смотрел прямо перед собой, как все — молодцевато и в никуда.
Речь товарища Емельянова так искусно подавала факты, что только опытное ухо могло их выцедить из политической трескотни. Факты эти очень не понравились Зайцеву. Где-то поблизости засела банда. И это было как-то связано со стрельбой, которой приветствовали их с Зоей приезд. И с мертвыми ногами в телеге во дворе ГПУ.
Товарищ Емельянов выпалил последние ядра:
— Классовый враг выдвинул ядовитое жало. Подавить кулацкий очаг. Пока он не раскинул террористическое пламя на колхозных землях. Это наш долг. Как людей с оружием в руках! Как советских людей! Как коммунистов! Как... — товарищ Емельянов замялся — не мог придумать дальше. Махнул рукой, как бы оборвав замявшуюся фразу.
Строй курсантов ответил неодинаково угрюмым выражением. У кого-то — с оттенком недоверия. У кого-то — скрытой насмешки. У кого-то опаски. Журов дернул подбородком. Больше ни движения, ни звука.
Еще залп — последний:
— Дадим кулацким бандитам коммунистический ответ!
Тщетно. Не зажег. От строя курсантов ККУКСа веяло могильным молчанием, гробовой неподвижностью.
Зайцев мог только гадать почему. Что слышали они в речи Емельянова, чего не слышал, не знал он?
Он тщетно пытался прочесть это в их лицах.
Их неподвижность грозила стать вечной.
— Что, бега не состоятся? — вдруг прозвенел капризно голосок. Там, за свежесколоченной оградой, колыхался крепко надушенный шелково-крепдешиново-батистовый цветник: жены.
— Мы зря наряжались? — не унималась Анюта Кренделева. Есть такие голоса, слабые и милые, которые способны звонко перекрыть любое расстояние и любой шум, как флейта-пикколо — симфоническое тутти. Забор им тем более не помеха.
Товарищ Емельянов слегка клацнул челюстью.
Кренделев сжал губы. Кто-то не выдержал — ухмыльнулся.
Тотчас издалека грянул хор жен — нестройный, возмущенный:
— Откроют трибуну или нет? В чем дело, товарищи? Ну и манеры. Я близка к обмороку, солнце так и бьет, мне надо в тень... Что случилось? Провокация? Не говорите ерунды. Это свинство! Товарищи, ау! Бега отменены? Вражеская вылазка?
Косоглазый зам уловил движение головы шефа — тотчас согнул стан, наклонил мохнатое ухо.
— Уведите. Распорядитесь. Разъясните. Уладьте, — проскрипел сквозь зубы товарищ Емельянов. — Ну!
Косоглазый припустил, пыля, к ограде.
— Бега разве отменены? — спросил властно голос из строя. Баторский.
Товарищ Емельянов сменил тактику и тон.
— Это, товарищи, вам решать. Я вам приказывать не могу. По мне, так странно устраивать праздник, когда враг поднял голову. В округе выявлено затаившееся террористическое гнездо бывших белоказаков. Несколько семейств. На станице.
Зайцев уловил не то что вздох, пронесшийся по строю. Словно ледяной порыв: всех так и заморозило. А товарищ Емельянов даже начал раскачиваться — с пяток на носки, с пяток на носки. Как будто это помогало выталкивать из нутра слова:
— Они не пожелали вступать в колхоз. В свое время. Укрыли от советской власти! Зерно и скот! А теперь замечены! В новой попытке!
— Так это они стреляли в нас с товарищем? — спросил Зайцев, смяв шуршащую газетой речь Емельянова. В тишине каждое слово звучало отчетливо. — Откуда вы знаете?
Строй слушал во все уши. Емельянов клацнул челюстью.
— Такие вещи знают! Вы не местный — вам не понять здешней ситуации.
Он снова обернулся к курсантам:
— Первая попытка уничтожить гнездо показала! Враг вооружен и готов к сопротивлению. Я вам приказывать не могу, — вдруг задушевно добавил он. — Я могу только сказать от себя. Враг сильный и опасный. Нам нужна помощь надежных советских людей. Каждый штык, каждый ствол.
— Я прошу прощения, — подал голос Баторский. — Вопрос. По составу врага.
Товарищ Емельянов ободрился, кивнул, приглашая.
— Спрашивайте, товарищ Баторский. Отвечу с прямотой.
Баторский глядел не на него — на своих курсантов. Мальчиков.
— А сколько в этом гнезде — детей?
Товарищ Емельянов потрогал себя за жесткую щетку волос.
— О детях этих врагов позаботится советская власть. Даст им шанс вырасти честными советскими людьми. А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят. Кулаку — раскулачивание. Бандитам и террористам — ответ по закону. Жалость здесь неуместна.
Зайцев проклял тот миг, когда полез в его дьявольский автомобиль.
— Кто готов. Добровольцы.
И опять ничего. Только легкомысленный ветерок обдувал лица, хлопал флажками.
«Что же мне делать? — думал Зайцев. — Не могу, срочный телефонный разговор с Ленинградом? Симулировать внезапный приступ падучей? Боже, какая глупость. Есть выход лучше?» Ум его тщетно метался.
— Ну-с, товарищи курсанты, — задумчиво обратился к строю Баторский. — Вот хорошая задача для красных командиров. Карательная операция. Задача по плечу. Женщины, дети. Кто видит перед собой врага, по которому стрелять, — шаг вперед.
Зайцев внутренне ахнул. Баторский дернул себя за ус.
— Но здесь не знаю, что и сказать. Товарищ Емельянов однозначно настаивает: перед вами враг.
— Кулак, — уточнил Емельянов. — И террорист.
— И о карьере вам своей подумать самое время, — задумчиво выговорил Баторский.
Взгляд его переходил от одного лица к другому. Как бы прощупывая каждого.
— Какая уж может быть карьера, если курсант уклоняется от выполнения долга каждого советского гражданина? — почти монотонно, словно читал лекцию, выговаривал он. — Военный человек должен исполнять приказы. И отдавать. И честь знать. Вот уравнение — решайте.
«Честь», «честь» — билось у Зайцева сердце. Глаза Баторского на миг обожгли и его («думает, что я заодно с ними» — Зайцева окатило стыдом). Вернулись на побагровевшее лицо товарища Емельянова.
— Добровольцы. Шаг вперед! — выкрикнул Баторский.
«Вот вам и будущие маршалы, — лихорадочно думал Зайцев. — Вот вам и мальчики. Но что делать — мне?» А при этом какой-то частью своего существа с любопытством ждал: что они выберут?
«А я?» Сердце его бухало. Пока речь о них. Но дойдет и до него. Бесчестие или карьера. Одна катастрофа или другая. Выбор был неотвратим, как смерть. «Но что выберу я?» — вглядывался в собственную душу Зайцев. На самое дно.
Казалось, даже ветер стих. Раскаленный миг все тянулся.
— Я...
Чеканным шагом вышел из строя Журов. Вздернул руку к виску.
— Товарищ Баторский, разрешите обратиться.
Рука застыла у виска. Армейский истукан.
Все замерли, если только была еще одна — следующая — ступень неподвижности у того паралича, в котором цепенел строй.
Разрешаю.
Журов отмахнул руку вниз.
— Прошу позволения покинуть строй.
И добавил:
— Лошадь ждет — перегреется.
У Баторского дрогнули зрачки.
«Вот тебе и будущая звезда. Сорвалась и упала. Кончено», — только и подумал Зайцев.
— Разрешаю, — распорядился Баторский. С болью? С облегчением? Зайцев не успел понять. Журов крутанулся на каблуках.
— Я тоже, — щелкнул шаг из строя. — Прощу позволения.
Артемов. Журов бросил на него взгляд. Ученик учителю.
«Что ж ты делаешь», — успел пожалеть Зайцев. Но больше не успел подумать ничего.
— И я.
— Прошу позволения.
— И я.
— Я тоже.
— Выйти из строя.
— Разрешите покинуть.
— И я.
Пронеслось через всю шеренгу, через каждый рот. Что крестьянского сына, что дворянского.
Молчание Емельянова стало ватным.
— Добровольцев нет, — отчеканил и с фальшивым сожалением развел руками Баторский. — А приказ я отдать не могу, товарищ Емельянов. Надо мной товарищ Буденный. Я приказы лишь исполняю. За самоуправство меня под трибунал.
— Я уверен, что товарищ Буденный, когда узнает... — залопотал Емельянов.
Фигуры его зама, гэпэушных молодцов казались будто вырезанными из картона. Казалось, если ветер сейчас опять дунет, они опрокинутся. Их покатит, потащит в пыли. И все окажется сном. У Зайцева звенело в ушах. Он уже не знал: от голода, от жары, от всего?
Чуть не подпрыгнул:
Пам! Пам!
Откуда-то сверху разрывались пушечные хлопки — аплодисменты: пам! пам! Пам!
Каждый хлопок тяжело падал с трибуны. Зайцев обернулся. Со скамьи медленно поднимался военный. Светлые глаза. Что-то неуловимо наполеоновское в холеном лице под фуражкой. Большой чин. Ладони ковшами: так лупили с галерки Мариинского театра петербургские студенты.
Пам! Пам! Пам! — уронил он еще несколько хлопков стоя.
Не спеша спустился по грубо сколоченным боковым ступеням, сошел с трибуны. Подошел.
Рот усмехнулся. Губы, которые обычно называют «капризно изогнутыми». Рот баловня судьбы, любителя и любимца женщин.
Глаза холодно осмотрели строй.
— Цирковое представление окончено, я полагаю.
Зайцев его узнал. Тухачевский. Совсем недавно был командующим Ленинградским военным округом. А потом? Зайцев не знал: видимо, Тухачевский взлетел так высоко, что взгляды простых смертных туда не добирались.
Тухачевский перевел взгляд на Баторского.
Тот отдал честь.
— Здравствуйте, товарищ Баторский.
— Здравия желаю.
— Товарищи.
Тухачевский заложил руки за спину. О сходстве с портретами Наполеона — только не обычными, а парадными, льстивыми, сам Тухачевский, похоже, отлично знал.
— Товарищи курсанты недовольны, что там окопались женщины и дети, — поспешил с объяснением Емельянов.
Зайцев его тут же возненавидел. Но отчасти и пожалел; в голосе Емельянова он слышал: такой роскоши, как милосердие к женщинам и детям, ему, Емельянову, по должности не положено. Не по чину. Не то бы он, Емельянов, так пожалел, он бы утопил в своей жалости этих кулацких женщин и детей...
— Враг может принимать любое обличье, товарищ Емельянов, — величаво и безразлично заверил Тухачевский нимало ему не интересного провинциального гэпэушника.
А смотрел — на курсантов.
— Уничтожать врагов советского строя — первостепенная задача Красной армии.
Слова веские, как ледяные глыбы. Такой не заорет, сапожками не застучит.
Его, в отличие от Наполеона, рост не подвел — будущим портретистам не придется приукрашивать.
— Очень жаль, товарищи, — неторопливо выговаривал Тухачевский. — Что такие вот настроения проникли в кадровый оплот Красной армии — Высшие командирские курсы. Очень жаль.
«Барский голос», — отметил Зайцев. Прозрачные глаза несколько задержались на Зайцеве — уделили миг человеческой мошке, не вполне понимая, что гражданский тип здесь делает. Зайцев встретил его взгляд, понял: «Ничего тебе не жаль. Никого и никогда». Скользнули дальше.
— Примечательно, что из всех подразделений ККУКСа подобное имеет место не на артиллерийских курсах. Не на химических. Не на штабных. Не на авиационных. Не на бронетанковых. А именно кавалерийских. Не удивлен. Род войск, который доживает свои последние дни перед тем, как уйти в историю.
— Славную историю, — расцепил губы Баторский.
Тухачевский обернулся.
Ответил не сразу — и глядя несколько мимо Баторского:
— Могу только догадываться, откуда, от кого эти настроения проникают в будущий комсостав Красной армии.
Тон говорил, что догадки здесь ни к чему: кто заражает будущий комсостав, он, Тухачевский, был уверен.
Глаза его снова морозили курсантов.
— Только настроения ваши никому не интересны. Приказ есть приказ. За неповиновение — трибунал. Надо будет — весь курс под трибунал, под расстрел пойдет.
Он остановился напротив Журова.
— Не сомневайтесь. Это армия. Незаменимых нет.
Но голубые глаза спокойно смотрели в ледяные серые.
Журов снял фуражку. Движения его были спокойными, плавными. Зайцев знал эту подчеркнутую плавность у ленинградских бандитов. Она предвещала единственное и неизбежное развитие событий. «Сейчас даст ему в морду», — на миг ахнул он.
Но Журов не размахнулся. Не сунул коротким жестом кулак в живот. Не боднул противника головой в лицо.
Он так же спокойно отстегнул кобуру с пистолетом. Положил ее в фуражку. Протянул товарищу Тухачевскому.
Зайцев увидел бледное, совершенно побелевшее лицо Артемова. Он и не знал, что живой человек может так бледнеть — до восковой прозрачности.
Журов стоял с фуражкой.
Тухачевский не вынул рук из-за спины. Лицо его не дрогнуло ни мускулом. Это был поединок воль. Журов тоже ничуть не изменился в лице. Не сводя глаз, спокойно уронил фуражку плашмя — в пыль, у сверкающих сапог товарища Тухачевского. Рывком отдал честь. Резко развернулся — прямая спина, вздернутый подбородок. И покинул строй. Шаги его, казалось, отдавали в ребрах. Зайцев не сразу понял, что это бухает его собственное сердце.
— Превосходно. Ну что ж, — медленно, как удав, разматывающий кольца, развертывал фразу Тухачевский. — Подождем прибытия товарища Буденного. Вашего непосредственного командира. А пока командуйте вольно, товарищ Баторский.
— Строй. Воль-на! Раз-зой-тись!
С шорохом порядок расстроился: люди пошли, побрели, зашагали прочь. Но еще не решались глядеть друг на друга.
Зайцев сделал несколько шагов. Остановился, точно не узнавая, где он. Трибуны разевали пустую пасть.
— Товарищ Зайцев! — подал голос Емельянов. — Вы идете?
— Нет, — неожиданно просто ответил Зайцев. — Я не иду.
Повернулся и пошел прочь. Удивляясь этой легкости.
Веселой легкости мертвеца.
 Рейтинги
Рейтинги